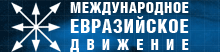Тот же Френсис Фукуяма более 20 лет тому назад говорил о конце истории, о том, что теперь все люди, все государства должны стремиться к конвергенции, к диалогу. Но обрушение башен-близнецов в Нью-Йорке в 2001 году показало, что его теория несостоятельна. Мир вновь стал перед лицом конфликта.
Я думаю, что традиционные парадигмы конфликта, войны остаются актуальными. И нет такой теории, которая бы объясняла все эти механизмы, связанные с эпохой глобализации, с новыми вызовами".
Собственно, сам Фукуяма считает, что утверждение конца истории не следует понимать как декларацию о начале "золотого века". Он всего лишь предрек логический финал человеческой эволюции с наступлением всеобщей победы либеральной демократии как наиболее эффективной и разумной формы государственного устройства. Хотя Фукуяму много критиковали за тенденциозность, за невнимание к новым вызовам современности типа фундаменталистского ислама (да и сам Фукуяма в более поздних работах частично дезавуировал свои выводы), но факт остается фактом: коммунистическая идеология потерпела крах.
Впрочем, Советский Союз своим распадом нанес Западу, наверное, самый сильный удар, лишив главного и единственного врага. Потеря смыслов - вот откуда произрастает нынешнее бессилие западных лидеров. Говорит эксперт Центра консервативных исследований социологического факультета МГУ Александр Бовдунов:
"Лидерам западных стран, чтобы противостоять Советам, надо было обладать серьезными лидерскими качествами, разбираться в том, что задает смысл политике. С исчезновением Советского Союза они принялись искать других противников и даже самостоятельно их конструировать. Классический пример - политический ислам и различные варианты экстремистских исламистских религиозных доктрин. Это одна из причин.
Но более важным мне кажется сам по себе процесс деполитизации политики, который происходит на Западе. Он развивает базовые идеи либерально-демократической философии: государство должно быть минимизировано, политика уступает место экономике, а на смену политическим баталиям должна прийти, как говорил один из ведущих либеральных теоретиков Адам Смит, приятная коммерция. Стремление заменить политическое измерение человека экономическим, максимизация экономического принципа лежит в основе измельчания западных политиков.
Зато люди, владеющие крупнейшими корпорациями, капитаны финансовой сферы не только не измельчали, но представляют собой экономических "чудовищ", которым бросают вызов сторонники альтернативных либерализму доктрин. И этот фактор кажется мне наиболее важным в осмыслении данного феномена".
По мнению экспертов, утрата западным миром векторов развития, базирующегося на значимых идеях и проектах, привела к тому, что глава государства им теперь стал нужен только как управляющий менеджер. Он не должен обладать собственным планом преобразования мира, он должен удовлетворять требованиям разных групп истеблишмента.
В таком контексте измельчания института западного лидерства Рональд Рейган, Жак Ширак и даже Герхард Шредер выглядят настоящими политическими тяжеловесами. Сегодня Запад сталкивается с дефицитом вожаков в исконном понимании этого слова - сильных духом, убежденных в собственной правоте, не боящихся совершать ошибки и признающих личную ответственность за них людей, способных сплотить и повести за собой нацию. Говорит Александр Бовдунов:
"С этим сталкиваются сами западные государства. Недовольство нынешней политической элитой растет. Но существующие структуры готовят именно таких лидеров.
Другое дело, что в каких-то альтернативных движениях мы можем увидеть действительно сильных лидеров. Например, Франция. Мы можем увидеть не только невразумительного социалиста Олланда, но и Марин Ле Пен - не просто дочь, унаследовавшую от отца радикальную партию, но серьезно реформировавшую ее. В какой-то степени Марин Ле Пен можно сравнить с Маргарет Тетчер, несмотря на их серьезные идеологические разногласия.
Этот пример показывает, что за границами мейнстрима вызревают фигуры. Но они появляются именно вне того магистрального вектора, который избирает западная цивилизация. И если они будут выбраны обществом, это будет означать пересмотр магистрального пути развития. Следствием такого переворота станут серьезные потрясения на смысловом уровне".
В нынешнем положении вещей есть и определенные плюсы. Журнал "Эксперт" подчеркивает, что каждый из лидеров Западного мира так плотно обставлен различными сдержками и противовесами, что не сможет наделать серьезных глупостей в силу ограниченности своих возможностей. Однако подобная связанность главы государства многими ниточками, за которые его дергают невидимые кукловоды, имеет и серьезные недостатки, что хорошо видно на примере Барака Обамы, пришедшего изменить Америку и увязшего в ее идеально отлаженной политической машине.
Иными словами, институт политического лидерства нуждается в серьезном обновлении, считает Леонид Савин:
"Новые лидеры просто необходимы. И они уже присутствуют на международной арене. Многие аналитики считают, что одним из таких лидеров является президент России Владимир Путин. Но новые лидеры появляются и в других развивающихся странах. Тому пример Бразилия. Рост Китая говорит о том, что новые лидеры появляются и в странах Азии. Кризис касается в основном развитых капиталистических стран - это Западная Европа и США, государства евро-атлантического сообщества. Кризис связан не только с политическими убеждениями, но и во многом с ценностями идентичности".
Проблема еще и в ослаблении самого института государства. Упомянутый выше Фукуяма в своей работе "Конец истории" указывал, что победа западного цивилизационного проекта стала возможной благодаря силе, а не слабости. Он воздавал хвалу консерваторам. И хотя Фукуяма потом изменил свое мнение, пораженный глубиной ошибок администрации Буша-младшего в ходе борьбы с терроризмом после сентября 2001 года, неоконы Буша явили собой пример твердости в международной политике и убежденности в собственной правоте, чего так не хватает Обаме. Говорит эксперт Центра консервативных исследований социологического факультета МГУ Александр Бовдунов:
"Неоконсерваторы, особенно, в эпоху Джорджа Буша-младшего - это идейное движение, объединенное мессианской перспективой Америки, не просто задающей тон во всем мире, а являющейся неким "градом на холме", который светит всему миру и ведет его к желаемому концу истории. Неоконсерваторы проявляли жесткую политическую хватку. Для либералов же это не свойственно. Сейчас мы видим преобладание такого ультралиберального подхода. Ультралиберального - не только в целях, к которым движутся эти люди, но и в самой методологии этого движения, в том, какие принципы они выбирают. Это - забвение силового измерения бытия".
Либералы объявили сильное государство врагом творческой инициативы индивидуума. Возможно, что отчасти это и так. И, наверное, было бы правильным учитывать частные интересы каждого из нас. Но очевидно также и то, что победа на поле битвы чаще остается за более монолитной силой, обладающей четким мировоззрением, ведомой твердой рукой и незамутненным сознанием. Это необходимо помнить Обаме и его коллегам из других западных стран, если они протащат либерально-демократический проект сквозь угольное ушко политического детерминизма.
Материал подготовил Сергей Дузь