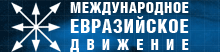Мне думается, трудно отрицать, что у России и Европы как цивилизационных образований есть некоторые общие или пересекающиеся ценности. Во-первых, христианские ценности. Конечно, православие отличается от католичества или протестантизма, но ведь канон-то у них общий, и это так или иначе является почвой для взаимопонимания или "взаимослышания".
Во-вторых, это то, что Россия получила от европейской культуры в новое и новейшее время. И получила немало! Рационализм, ориентацию на научное знание. Идеи равенства, братства, свободы. Ценность личности (достаточно почитать таких очень русских мыслителей, как Лаврова и Михайловского, и не только их). Наконец, социализм. Естественно, что перевод этих понятий на русский язык не был абсолютно адекватен оригиналу, но факт что они прижились на российской почве, пусть и преимущественно в образованной среде, составив одно из ценностных "ядер" российской цивилизации.
Другое же ядро можно назвать собственно "почвенным" - т. е. ценности и институты, рождавшиеся органически как способы приспособления этноса, а затем и суперэтноса к экологическому и хозяйственному пространству, геополитическим условиям и внешним вызовам. Мне уже приходилось говорить об этом в докладе на нашем семинаре. Для краткости выделю три базовых компонента российской "почвенности": общинность в социуме, артельность в хозяйственной жизни, "державность" в политике. Это и составляет ценностно-институциональную базу российской цивилизации.
Сложный состав отличает не одну российскую цивилизацию - в этот ряд можно отнести, например, Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию, Японию. Является ли такая "смешанность", симбиотичность плюсом или минусом по сравнению с более цельными цивилизациями (индийской, китайской, западноевропейской)? Однозначно сказать нельзя.
Безусловно, "европейский" и "почвенный" компоненты российской цивилизации нередко конфликтовали друг с другом и не составили до сих пор полноценного единства. Но в комбинации этих двух начал усматривается и принцип дополняемости, что может из симбиоза дать продуктивный синтез. Такой синтез, именно исходя из эффекта дополнительности, способен создать модель более гармоничного общественного устройства (взаимодействия индивидуального и общественного, государства и бизнеса, плана и рынка и т. п.) по сравнению с западной моделью, которая сейчас, как мы видим, все более испытывает кризис. Кстати, подобной попыткой выдвинуть альтернативную модель явился социализм в России, пусть и не вполне удавшийся.
Что касается сферы геополитики, то здесь диалог России с Западом не только возможен, но и имеет солидные исторические традиции - участие России в "европейском концерте" в XVIII - начале XX вв., военная коалиция середины ХХ в. При этом партнерство осуществлялось без потери цивилизационного "лица". В наше время условия отношений с Западом по многим причинам осложнились. Причем не только из-за геополитического прессинга и стратегии атлантизма с его стороны, но и благодаря неадекватной реакции на это постсоветского руководства, его иллюзиям по поводу благих намерений западных политиков и "однокачественности" Запада и России.
В связи с этим в докладе справедливо говорилось о том, что необходимо "изменить самосознание политического руководства и правящей российской элиты" - в смысле отказа от примитивного, подражательного и соглашательского "европеизма" или "западнизма" (если использовать термин А. А. Зиновьева). Речь не идет, разумеется о тех, кого Александр Гельевич называет "агентами влияния", и европеизм (скорее псевдоевропеизм) которых основан на корыстных интересах.
Но есть немало политиков, которые, все чаще употребляя патриотическую риторику, все же продолжают надеяться на благосклонность со стороны Запада и в расчете на это идут на постоянные компромиссы. Как можно изменить их менталитет? Я думаю, этому поможет сам Запад своими действиями, из которых станет окончательно ясно, каким действиям надо решительно противостоять, а вокруг каких можно маневрировать.
В. Г. Хорос, доктор исторических наук