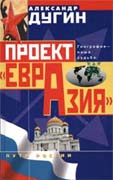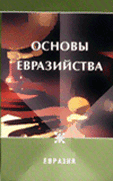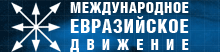 |
|
|||||
|
|
||||||
|
||||||||||||
|
...Копирайт был призван регулировать производственные отношения, но сейчас это далеко не так; копирайт ведет к драконовским законам, ограничивающим возможности всех и каждого. Копирайт ограничивал издательства в интересах авторов. Сейчас копирайт ограничивает публику в интересах издательств.
(Ричард Столлман, выступление на форуме Под копирайтом давайте понимать право
собственности на интеллектуальный продукт.
Терминологически « интеллектуальная
собственность» – более широкое понятие, и
«копирайт» есть лишь один из частных случаев его.
Технически говоря, интеллектуальной
собственностью является право на торговую марку,
логотип, патенты и много других вещей (скажем,
право на доменное имя). Копирайт: взгляд в историю Историю копирайта отсчитывают с 7 апреля 1710 года: британский парламент издает закон о копирайте (Statute of Anne). Новый закон ограничивал права книгоиздателей определенным сроком, с тем чтобы предотвратить монополию. Дальше книжка поступала в public domain и ее могли печатать все желающие. До этого права на издание книжек защищались законом о лицензиях 1662 года; книгоиздатели, уплатив определенную сумму в казну, получали лицензию на монопольное издание книги. В конституцию США вписан закон, аналогичный английскому копирайтному законодательству: "для развития наук и искусств, Конгресс может закреплять за авторами и изобретателями исключительные права по использованию их работ на ограниченный срок". Впрочем, вплоть до 1950-х этот закон на практике относился почти исключительно к работам, авторами которых были американцы; до конца 1950-х европейские писатели были бессильны воспрепятствовать распространению пиратских изданий своих книг в США. Известное пиратское издание Хоббита и трилогии Толкиена (неполное и с идиотскими иллюстрациями на обложке) до сих пор встречается чаще других изданий в американских букинистических магазинах. Во Франции копирайт приобрел легальный статус только в 1791-м году, хотя первое общество охраны авторских прав (Societe des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) организовал еще в 1777 г. Бомарше. В 1841 Ламартин написал проект международного закона о копирайте, а в 1866 году президент SACD и главный французский статусный писатель Виктор Гюго основал международную версию этого общества, под названием International Literary and Artistic Association. В 1886-м году эта самая ассоциация написала Бернскую Конвенцию, которая до сих пор остается главным международным документом о копирайте. И тем не менее, копирайт (как и концепция интеллектуальной собственности в целом) оставался достаточно абстрактным понятием; делать миллионы с чужого авторского продукта, пожалуй, и возбранялось (вне США, по крайней мере); но ни цитирование, ни некоммерческое использование, ни копирование для частных нужд, ни включение цитат и аллюзий из чужого авторского продукта в собственный на практике никак не преследовались; да и не могли, за недостаточно разработанной юридической базой. Реальный и абсолютный статус копирайтное законодательство приобрело только в конце 1950-х, с распространением Бернской конвенции о копирайте и разработке копирайтных уложений ёнеско – Universal Copyright Convention (впрочем, СССР подписал Бернскую Конвенцию только в 1973-м, США – в 1988-м, а Китай – аж в 1992-м). Впрочем, функции копирайта в современном обществе, и его же функции в викторианскую эпоху были принципиально разными. Бернская Конвенция была основой для судебного разбирательства между автором и издателем; с ее помощью автор защищал свои права от недостаточно скрупулезного издателя. В эпоху электронных медиа, копирайт служит защите издателя (хозяина прав на публикацию) от использования этих прав частными лицами, причем автор зачастую оказывается в числе потерпевших наряду с этими самыми частными лицами.
Идейный поход против копирайта: Франция, 1950-е, Ситуационизм 1952-1968 Копирайтное законодательство было предложено и разработано людьми достаточно левых взглядов; его содержанием была защита индивида (автора) от власти денег. В рамках традиционных (марксистских и анархо-синдикалистских) левых идеологем, копирайт был явлением сугубо позитивным. Разумеется, в рамках идеологем охранительных копирайт был не менее хорош (европейские правые, за редчайшими исключениями, всегда выступают в защиту собственности). Движение против копирайта невозможно в рамках традиционной правой и традиционной левой; именно поэтому антикопирайтные тенденции не были озвучены вплоть до начала 1950-х. Потерпело фиаско учение Маркса о социалистической революции: победа большевизма в России доказала, что диктатура пролетариата приводит к такому же отчуждению, как и диктатура буржуазии. Но корень этого поражения лежал глубже – в различии между пролетариатом и репрезентацией, изображением пролетариата, которое (будучи во всем противоположностью пролетариата) подменило пролетариат. Марксизм погубило невнимание к различению опыта и репрезентации опыта. Ситуационисты учили, что мир вступает в новую фазу развития – в фазу Спектакля, общества зрелищ. Спектакль это подмена опыта, переживания – его репрезентацией; по сути общество Спектакля это диктатура медиа. Отчуждение трудящегося от продукта труда приобрело характер наиглобальнейший: люди Общества Зрелищ отчуждались от их же собственных личных переживаний. Там, где у Маркса говорилось об отчуждении продукта, ситуационисты говорили об отчуждении субъекта бытия от бытия и от субъектности. Спектакль это отчуждение, коммодификация образов. Спектакль – Общество Зрелищ – отчуждение образов – наступает, когда образ перестает быть всеобщим, бесплатным ресурсом; перестает быть свободным даром. Спектакль – это когда образ становится продуктом потребления. Спектакль – это образы, регулируемые безличными, механическими, имущественными отношениями; Спектакль – это копирайт. Речь идет обществе тотального контроля над отчужденными образами, обществе тотального промывания мозгов; но промывание настолько тотального и вкрадчивого, что оно незаметно даже тому, кто этим промыванием занят. Мир непосредственного опыта был целиком и полностью заменен на мир медийной репрезентации; и в силу тотальности этой замены, обнаружить ее из непосредственного опыта невозможно. У Маркса в основе отчуждения лежало разделение труда; в ситуационизме причиной отчуждения стал Спектакль – непрекращающийся монолог власти, окончательно отождествивший доминантный дискурс и Капитал. По Марксу, перепроизводство должно приводить к кризисам; согласно Ги Дебору (автору классического текста "Общество Спектакля"), перепроизводство приводит к накоплению капитала, который трансформируется в образы Спектакля. Кризис перепроизводства удалось преодолеть государственным регулированием и искусственным увеличением потребностей, насаждением культа потребления: рекламы и вкрадчивых пара-рекламных трансляций. По мере роста производства, все большая часть произведенного продукта относится к сфере образов; тем интенсивнее идет замена непосредственного опыта на опыт симулятивный; и тем тотальнее оказывается власть Спектакля и Капитала. По сути, Капитал (Спектакль) оказывается чем-то вроде наркотика, вызывающего бесконечно увеличивающуюся потребность в себе самом. Таким образом, учат нас ситуационисты, Капитал (вопреки предсказаниям Маркса) оказался непобедим и всесилен. Марксистская экономика была основана на освобождении труда; домарксистская экономика – на товарно-денежных отношениях. Основанием экономики ситуационистов был потлач. Основоположником этой экономической теории следует считать Марселя Мосса, французского антрополога и исследователя социального устройства американских индейцев. Ёкономика индейцев была основана на ритуальном обмене дарами; отсюда и потлач. Действительно, экономика товарного обмена исторически изобретение совсем недавнее; человеческому существу гораздо естественнее и приятнее дарить, чем торговать. В рамках ситуационизма, денежно-товарная экономика отвергалась как нечто иллюзорное. Ситуационисты не признавали товарно-денежные отношения, поскольку считали, что их заменил механизм репрезентации. "Информационное общество", общество, где основным производством становится производство образов – это Общество Спектакля. И это общество – тирания куда более жесткая, неизбывная и безнадежная, чем любой тоталитаризм; человек, мозги которого контролируются через перепроизводство рекламных образов, управляется гораздо эффективнее, чем узник ГУЛАГа. Тирания – это система односторонней трансляции, потребления и накопления образов; сопротивление тирании может заключаться только в разрушении этого механизма. Другими словами, сопротивление тирании это равноправное участие всех и каждого в создании и трансляции образов. В этой ситуации, роль полиции исполняет спектакль – вся совокупность односторонних коммуникаций. Наручники на теле субъекта культуры это механизм авторства, а революционная акция есть любая акция, размывающая и разрушающая авторство. Ситуационисты практиковали новое искусство – detournement – искусство коллажей и осквернения классических и современных образчиков академической и массовой культуры. А основным злом, основным полицейским механизмом являлся институт фиксации авторства: копирайт. Ситуационисты публиковали тексты под грифом "No copyright. No rights reserved" и считали своим первейшим долгом посильное нарушение чужого копирайта. Плагиат воспринимался как нечто необходимое. "Плагиат необходим. Плагиат использует авторские идиомы, уничтожает ложные мысли, заменяет ложное правильным" – говорил Ги Дебор. Деборианский синтез Маркса, гностиков, социального критицизма и авангардных художественных практик оказался удивительно органичен и актуален до сих пор. По сути, ситуационизм, наряду с разными версиями Консервативной Революции (национал-большевизм, левое скинхедство) и расиализма (неонацизм, правое скинхедство, Identity Christianity),остался единственным политическим учением, не взятым на вооружение доминантным дискурсом.
Ричард Столлман и свобода программирования ...Когда я увидел перед собой перспективу жизни, прожитой так же, как живет весь мир, я решил – ни за что, это отвратительно, мне будет стыдно самого себя. Если бы я участвовал в поддержке этой системы отчужденного, собственнического программирования, мне казалось бы, что я делаю мир хуже ради денег. Ричард М. Столлман (из интервью)
До конца 1970-х, программирование было делом ученых. Программа приравнивалась к научному открытию, а научная этика воспрещает ученому скрывать от общества результаты своих исследований. С середины 1970-х, программа стала коммерческим продуктом, и текст ее превратился в коммерческую тайну. Помимо массы технических неудобств (ну, как вы прикажете учить программированию студентов, если текст программ, которыми они пользуются, недоступен), это нововведение вызвало отторжение одновременно этическое и философское. Ричард М. Столлман положил начало движению свободного программирования, уволившись в 1984 году из M.I.T. Столлман основал некоммерческую организацию по имени Free Software Foundation; в каком-то смысле, основание FSF было самым важным, центральным событием прошлого века. По политическому значению столлмановский манифест можно, наверное, сравнить с Коммунистическим Манифестом Маркса и Ёнгельса, хотя и с большой натяжкой. Свободное программирование требует следующих, жизненно необходимых каждому творческому человеку, свобод: · свободу запускать программу с любой потребной целью; · свободу изучать, как программа работает, и изменять ее в соответствии с потребностями; доступность исходного текста является необходимым условием этого; · свободу распространять копии программы с целью помощи ближнему своему; · свободу улучшать программу и публиковать свои улучшения, для пользы всего сообщества. Значение этих пунктов не ограничивается программированием; если мы, в соответствии со Сведенборгом, средневековыми каббалистами, Хомским и "пост-структурализмом", будем понимать мир как текст, понятие "программы" (текста) может быть распространено на любую вещь вообще. Идеологи свободного программирования утверждают, что западное общество поражено патологической жадностью. Одно из проявлений ее – драконовское законодательство о копирайте и авторском праве. Действительно, не очень справедливо, когда Майкрософт, не предоставляющий никаких гарантий на правильную (или какую-нибудь) работу своего продукта, требует по 50-100 долларов за продукт, себестоимость которого не превышает и доллара. Особенно несправедливо это, если альтернатива всему – бесплатная система (Линукс, или Гну-Линукс, как его предпочитает называть Столлман), предоставленная вместе с исходным текстом, в котором ошибок почти нет (ибо все найденные – исправлены). Согласно этой философии, непомерные заработки деятелей софтверного бизнеса не только не поощряют творчество, они превращают творцов в чиновников, озабоченных лишь попытками захватить монополию на тот или иной стандарт. Творческому импульсу материальное поощрение не необходимо: "дух дышит, где хочет". Общество, где пользователь программы не имеет права показать ее своим друзьям – общество фундаментально несправедливое, общество тотальной разобщенности и повсеместного доносительства. Ни о какой свободе, ни о каком духе взаимопомощи в таком обществе не может быть и речи. Столлман, сторонник радикальных защитников конституционных свобод из American Civil Liberties Union (ACLU), активист легализации наркотиков и правозащитник со стажем, увязывает борьбу за свободно-бесплатный софт непосредственно с центральным конфликтом американской политической жизни – попыткой честной публики отстоять гражданские свободы, записанные в конституции, но с каждым годом исчезающие кусок за куском. Но бесплатность программного обеспечения не может не внушать опасений адептам капиталистического предпринимательства. Капитализм основан на экономическом принуждении, а если все (или почти все)информационные продукты будут бесплатные – экономического принуждения не будет. Именно поэтому Майкрософт постоянно заявляет о необходимости борьбы с бесплатными программами как подрывающими основы американского общества. Мультинациональный капитализм пришел в противоречие с конституционными свободами американцев; и нетрудно догадаться, кто в результате победит. Столлмана обвиняют в коммунизме не только сторонники запрета свободных программ (которым несть числа), но и активисты хакерского движения, которым не нравится этическая сторона его учения. Столлман утверждает, что честный человек никогда, ни при каких обстоятельствах не должен пользоваться нечестным программным обеспечением; под оным понимаются все программы, у которых закрыт исходный код. Написанный Столлманом GPL (GNU Public License) требует лишь две вещи – чтобы вместе с программой неограниченно распространялся исходный текст, и чтобы во всех модификациях программы сохранялась лицензия и изначальное авторство, с пометками о том, какие изменения произведены. Свободное программирование, для Столлмана – абсолютный моральный императив; его точка зрения не прагматическая, а по сути религиозная. Свободное
программирование дает программы, которые весьма
надежны и эффективны, и я счастлив, что это
придает ему привлекательности. Но я скорее бы
выбрал едва работающую, неэффективную,
ненадежную, но бесплатную программу, чем удобную
и надежную, но проприетарную программу, которая
не уважает мою свободу.
Как всякая приличная религия, учение о свободном программировании несет в себе сильнейшую эсхатологическую компоненту. Если компьютерных монополистов и других лоббистов копирайта не остановят, очень скоро мы окажемся в ситуации, когда позаимствовать книгу у товарища будет уголовным преступлением. Преступление, которое пресечь трудно, приходится наказывать жестоко, и тем более жестоко, чем проще его совершить; это ведет к неизбежной эскалации наказаний за "компьютерное пиратство". С другой стороны, победа движения свободного программирования будет значить конец экономического принуждения и капитализма, что еще более неприемлемо для статус кво. Поэтому введение наиболее жесткой формы копирайтного законодательства – необходимое условие выживания капитализма как системы. Чем большая часть общественного продукта является продуктом информационным, то есть свободно копируемым на (сравнительно дешевый) материальный носитель, тем строже должны быть копирайтные уложения; вплоть до полного запрета на копирование текста для любых целей. И к этому дело идет; с 13 лет в XVIII веке, срок действия копирайта увеличился до 70 лет после смерти автора в конце XX-го, и увеличивается еще и еще; в сводках Майкрософт, компьютерное пиратство приравнивается к международному терроризму, и новые законы о борьбе с тем и другим пекутся, как горячие пирожки или слойки. Fair Use: экспансия копирайта и смерть культуры Копирайт не охраняет автора от воров, которые стремятся ограбить и лишить его законного добытка. Ёто миф; экономические обстоятельства таковы, что независимый артист не имеет ни малейшей возможности засудить кого-то за копирайт, это слишком дорого. Во всех без исключения случаях, судопроизводство ведется корпорацией от имени и за спиной артиста; а зачастую и без ведома артиста. Корпоративный шоу-бизнес ведется не в интересах артиста; корпорация и артист – антагонисты. Копирайт, в его настоящей форме будучи средством защиты интересов корпорации, никак не служит интересам артиста, а даже наоборот. Современные условия бытия оставляют человека один на один с бесконечным монологом масс-медиа и культуры; монологом масс-медиа и культуры о самих себе. Хуже того, реальность, с которой имеет дело субъект культуры – есть продукт этого самого монолога. Человек остается безвольным и безвластным червяком в колоссальной кафкианской машине самовоспроизводящейся культуры. Культуры, язык которой защищен копирайтом – чтобы произнести в этом смысловом поле нечто осмысленное, вообще что-то произнести, требуется добыть разрешение владельца копирайта. Ситуационисты утверждали, что в современной ситуации единственно адекватным видом искусства является коллаж. "Реальность" перенасыщена знаками, хуже того, "реальность" состоит из знаков. Любое сколько-нибудь адекватное "реальности" утверждение должно быть произнесено на языке тех самых знаков, которыми оперирует "реальность": рекламных роликов, слоганов и плакатов, мусорной музыки из супермаркета (тех же U2, Beatles или Modern Talking), неоновых вывесок, корпоративного дизайна и городской архитектуры. Копирайтное законодательство в его современной форме делает искусство коллажа де-факто уголовным преступлением; запрещая таким образом любое сколько-нибудь содержательное художественное высказывание; кроме рекламы, косвенной и явной пропаганды преимуществ той или иной трэйдмарки. Еще один аргумент против копирайта к настоящему моменту стал практически общим местом. Культура остается живой лишь постольку, поскольку развивается; а развивается культура – путем ассимиляции индивидуальных текстов в общее текстовое и речевое пространство. Скажем, фольклорный стишок появляется как авторское произведение, но ассимилируется, после произвольного тиражирования, как нечто анонимное и подверженное произвольным изменениям. Современное состояние законов о копирайте таково, что процитировать даже одну-две фразы кем-то сочиненного текста проблематично. Для культуры это означает смерть, безвозвратную и окончательную – что произошло бы с математикой, если бы нельзя было бы использовать теорему кого-то без разрешения автора или наследников? Некоммерческое использование чужого текста – fair use – в Америке исчезает, от года к году, как какой-то вымирающий зверь или насекомое. Так, 20-30 лет назад скопировать для себя статью из журнала (научного, например) можно было совершенно легально и беспрепятственно. В 1994-м году хай-тек корпорация Тексако окончательно проиграла много лет тянувшийся процесс "Геофизический союз против Тексако", с нее взяли штраф и на будущее запретили ученым копировать в библиотеке статьи, без разрешения правообладателя – даже для собственного употребления. Ситуация с легальностью подобной практики в университетах сейчас неясна, в библиотеках предупреждают, чтобы копировали на свой страх и риск; но ситуация развивается к тому, что и это со временем запретят. Запрет на цитирование двух-трех фраз из статьи – тоже нововведение последнего десятилетия. В 2001 году профессор Лауренс Лессиг, модный юрист, написал книгу "Будущее Идей". Лессиг доказывает, что экспансия копирайта последних 3-4 лет коренным образом меняет западное общество, превращая каждого прежде законопослушного жителя в уголовника (скажем, подросток, повесивший у себя в комнате изображение Микки-Мауса, это изображение таким образом публикует, а значит нарушает копирайт). Зачем вообще нужен копирайт Итак, аргументы в пользу копирайтного законодательства (и тут я говорю о Digital Millennium Copyright Act и его аналогах, внедряемых повсеместно через WTO, WIPO, GATT и Гаагскую Конвенцию) исчерпываются следующими: · Ётический аргумент. Компьютерное пиратство (сэмплинг, цитирование, копирование на ксероксе) – это воровство. Воровать нехорошо. · Прагматический аргумент. Чтобы ученому (художнику, писателю, программисту) было чего кушать, ему надо платить за работу. Если все будут друг у друга переписывать его новую компутерную игру (песню, статью, роман, стихотворение), художник умрет с голоду и прогресс остановится. · Социальный аргумент. Если продукт можно будет задешево копировать, у всех будет всего поровну и задаром. Никто не захочет работать официантом, массажистом, уборщицей или вытирать блевотину. В России аргумент в пользу копирайта выдвигается ровно один – этический: каждый несчастный идиот, который поставит себе пиратскую копию чудовищных программ Майкрософта, оказывается мгновенно вором, ограбившим Майкрософт на полтора миллиарда баксов в год (во столько оценены потери MS). Действительно, прагматический аргумент здесь не работает. Трудно было бы утверждать, что без полтора миллиарда русских долларов в Америке остановится технический прогресс, да еще до такой степени, что Россия обязана для этой цели платить Биллу Гейтсу бабки, сопоставимые с годовым национальным продуктом. Аргумент, основанный на неотъемлемом праве частной собственности – не просто религиозный; право частной собственности ничем, кроме религии, не гарантируется; но и религия его гарантирует – совершенно не всякая. Религиозный аргумент в пользу святости всей и всяческой частной собственности невозможен в любом религиозном контексте, кроме иудео-христианского. Хорошо известен социо-экономический анализ Макса Вебера, объяснявшего особенности европейского хозяйствования и в целом капитализм спецификой западноевропейского христианства. Англо-американская цивилизация построена на протестантской, кальвинистской ментальности – богатство и успех интерпретируется как божественный знак, указующий праведника; в этом религиозном контексте (и ни в каком другом) собственность приобретает характер сакрального посвящения. Вне протестантской ойкумены о таких вещах, как неприкосновенность частной собственности, говорить просто смешно. В Америке вплоть до 1950-х никакого копирайта на неамериканский продукт не было, а все потому, что американское копирайтное законодательство, в соответствии с конституцией, служило прогрессу наук и искусств в Америке, и никак не охране иудео-христианских несокрушимых ничем собственнических прав "автора" на написанное им на заборе слово х.. либо Windows XP. Другое дело, что в масс-медиа, по причине материальной заинтересованности, религиозный и этический подход к копирайту начисто вытеснил подход прагматический. В Америке этическая и социальная система построена на неприкосновенности частной собственности, а антикоммунизм давно уже (начиная как минимум с 1950-х) стал явлением религиозным, по сути эквивалентным христианству. В этом смысл достаточно расхожего отождествления компутерного пиратства, сатанизма и коммунизма; с точки зрения доминантной в Америке этической системы, это явления эквивалентные, поскольку покушаются на основную сакральную ценность протестантской цивилизации – собственность; сакральное помазание и основной атрибут божества. Второй аргумент в пользу копирайта – прагматический – подробно и в деталях опровергается сторонниками fair use. "Лучше иметь кварту свободного программного обеспечения, чем галлон частно-собственнического программного обеспечения" заявил Ричард Столлман; и оказался в этом совершенно прав – чудовищное перепроизводство софта приводит к тому, что из ста коммерческих программ до прилавков доходят от силы 10, а через 3-4 года и эти десять тоже нигде не купишь. Ёволюция компьютерного железа делает все вообще коммерческие программы абсолютно непригодными к употреблению через 7-8 лет после их написания. Напротив, свободная программа живет вечно, будучи доступна с сети на миллионе FTP-сайтов; а при необходимости (замене операционной системы или компьютерных причиндалов) ее нужно лишь перекомпилировать и она опять заработает. Даже и полпинты свободного программирования делают гораздо больше для человечества, чем тридцать галлонов программирования частнособственнического. Не говоря уже о том, что "прогресс" (как и измеряемый литражем программ, так и прогресс просто) далеко не всеми толкуется однозначно. Можно доказать, конечно, что угодно, но формула "прогресс любой ценой" (ценой творчества и свободы) довольно сомнительная. Сторонники копирайтов утверждают, что плата за интеллектуальную собственность есть единственный способ экономической поддержки свободного творчества; но это совершенно не так. Культура существовала десятки и сотни веков без всяких копирайтов, и ясно, что творческая и духовная жизнь была на протяжении этих веков ничуть не менее интенсивна, чем сейчас. Даже и сейчас (несмотря на колоссальное давление со стороны индустриальных, финансовых и бизнес-кругов) фундаментальная наука финансируется из источников, никак не связанных с интеллектуальной собственностью; большинство форм искусства, от живописи и поэзии до макраме и балета – тоже. Применение заимствованной из поп-музыки экономической модели в большинстве областей культуры привело бы к немедленному уничтожению всей интеллектуальной жизни. Есть десятки возможных (и реально работающих) экономических моделей, обеспечивающих поддержку свободного творчества безотносительно к интеллектуальной собственности. Многие виды искусства (поэзия, да и музыкальный коллаж а ля Негативланд тоже) существуют как хобби; другие питаются за счет меценатов. Те из них, которые коммерческие (софт-порн, поп-музыка, Голливуд, бестселлеры), напоминают повторяющиеся от раза к разу штампованные идентично-уродливые макаронные изделия и вообще непонятно зачем нужны. Творчество есть продукт отчасти магический и интересный ровно в той степени, в которой магический. Магический значит спонтанный, иррациональный, возникающий от духа; магический – это когда озарение. Если у человека было озарение, оно произойдет бесплатно, и даже если с него сдерут кожу, оно все равно произойдет; а если человеку сказать нечего кроме как за бабки, то пусть лучше вообще не говорит. Свободное программирование живет за счет консультаций и поддержки программного продукта: свободный он конечно свободный, но в коде сам черт ногу сломит, и богатый пользователь предпочитает выплачивать какие-то бабки автору за то, что тот поможет ему разобраться, либо улучшить продукт. Программист живет чуть беднее, но свободнее; а пользователь имеет кварту свободного программирования вместо галлона программирования частнособственнического и тоже доволен. |
Виды цветного металлопроката Воздушные завесы Топас 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||