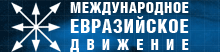Дальнейшие события достаточно хорошо известны. Украинский референдум, на котором 90,32 % участвовавших в голосовании высказались за то, чтобы "Украина была независимым и суверенным государством?", паралич ССГ и знаменитые "Беловежские соглашения", положившие конец "ново-огаревскому процессу". Вслед за чем прекратили свое существование связанные с проектами "обновленного Союза" и ССГ структуры - Госсовет, Межреспубликанский экономический комитет и др., и была отброшена согласованная с подавляющим большинством бывших союзных республик программа "Согласие на шанс".
Родившийся из "пены Беловежья" СНГ оказался "условно-эффективным" образованием, и постепенно, осуществив свои бракоразводные функции, пришел к своему логическому концу. Различные векторы развития постсоветских государств постепенно вывели де-факто некоторые из них за рамки Содружества с переориентацией на США, ЕС, региональные блоки, "нейтральный статус" и др.
Вместе с тем, благодаря совместным усилиям России, Казахстана, Белоруссии и ряда других государств, в пределах постсоветского пространства со второй половины 90-х сложились либо начали складываться структуры, напоминающие целым рядом своих черт почившее "в бозе" образование под названием ССГ. Это - ЕвразЭС, "возрождающийся" после провала середины 90-х ОДКБ, отчасти ШОС (в своем "пост-советском" сегменте). Вершиной этих усилий стал проект ЕЭП, вызвавший неоднозначную реакцию в Киеве, несмотря на его принципиальное одобрение бывшим президентом Украины Л. Кучмой. Данное образование, не имевшее под собой ни определенной политической концепции, ни сколько-нибудь ясной идеологии (не считая концептуальные экспромты Н. Назарбаева и А. Лукашенко), постепенно стало обретать определенные геополитические очертания, превращаясь в альтернативу все более аморфному СНГ.
Однако вызовом этому объединению, изначально не мыслившемуся без участия Украины хотя бы в экономическом сегменте (за что активно ратовал потенциальный наследник Кучмы В. Янукович), стала украинская оранжевая революция, означавшая победу в Украине приверженцев иных геополитических ориентиров. Следствием этого, помимо ощутимого осложнения российско-украинских отношений, стал ступор в вопросе об участии Украины в ЕЭП (связанный с отказом украинской стороны от подписания всего пакета учреждающих его документов), что "подвесило" само это образование и поставило вопрос о перспективах постсоветской интеграции в "неоевразийском ключе".
По-настоящему же "момент истины" для несформировавшегося блока наступил в начале мая 2006 г., когда на саммите в Вильнюсе, при "идейно вдохновляющей" роли США, был образован Союз демократического выбора, объединивший, помимо прибалтийских стран, Украину, Грузию (уже открыто заявившую о своем намерении выйти из СНГ), Молдову, Азербайджан и даже Армению. Заявленный потенциальными членами этого новообразования проект оказался не просто европейским, но и проатлантистским, что подчеркнуло их отказ от участия от любых "неоевразийских" проектов и сделало СНГ пустопорожним политическим образованием с весьма сомнительными перспективами.
В свою очередь, само это образование заметно "ослабло" в своем европейском сегменте и усилилось в азиатском. Помимо России и Белоруссии, его участниками оказались страны, идентифицирующие себя с мусульманской цивилизацией и, по оценкам европейских и североамериканских экспертных сообществ, весьма далекие от последовательной демократии либо только стремящиеся к ней. России и ее элите предстоит сделать весьма не простой геополитический выбор, ибо в ситуации распада СНГ отказ от консолидации намечающегося "неоевразийского образования" чреват для нее окончательной утратой влияния в постсоветском пространстве и даже геополитической субъектности.
Что же может объединить сегодня участников этого потенциального союза?
Во-первых, стремление сохранить национальный суверенитет и внешнеполитическую субъектность, как минимум - национальную государственность - в условиях нарастающего глобального давления со стороны сверхдержав, активизации "международного терроризма" и "экспорта радикального ислама". Именно это не смогли гарантировать среднеазиатским государствам их североамериканские и (в меньшей степени) европейские партнеры, а попытки Белоруссии сохранить свою геополитическую и геоэкономическую самостоятельность уже сегодня приводят к ее жесткой блокаде со стороны ЕС и США.
Во-вторых, желание завершить национальную модернизацию и перейти из "трансформационного периода" в период устойчивого развития - что возможно лишь при условии сотрудничества с Россией в высокотехнологичных секторах, в области науки и образования, а также при поэтапном выстраивании того, что называется "единым экономическим пространством".
В-третьих, решить многочисленные социальные проблемы (дефицит трудовых ресурсов в одних странах потенциального альянса и их "перепроизводство" в других), что, как оказалось, является для некоторых из молодых национальных государств непосильным грузом и приводит к масштабным потрясениям.
В-четвертых, открывается (с учетом потенциала действующих и открытых месторождений Казахстана и Узбекистана) возможность для выстраивания согласованной политики в сфере экспорта энергоносителей.
Контуры будущего союза сегодня очерчиваются достаточно условно, однако вполне возможно предположить, что союз предполагает согласование действий на внешнеполитической арене, наличие единого оборонного пространства и скоординированной политики в области обороны (на базе уже действующего ОДКБ), последовательную экономическую интеграцию с созданием единого рынка товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов (на базе ЕвразЭС и формирующегося ЕЭП), общего культурно-образовательного пространства (с соответствующим сохранением статуса русского языка и российской культуры в странах союза) и др.
При этом принципиально важны отказ России от действовавшей в советский период патерналистской модели отношений с членами возможного альянса (при сохранении за ними разумных и обоснованных льгот), преимущественная опора на ресурсы российского бизнеса и НПО в деле консолидации "неоевразийского" пространства.
В то же время, консолидация Россией "неоевразийской" общности не должна противопоставляться ею курсу на сближение со структурами ЕС в тех областях, где это реалистично и действительно выгодно России (например, в процессе развития четырех "общих пространств"). Именно акцентуация "евразийской" составляющей позволит России увеличить свой вес на международной арене, занять более выгодную позицию в вопросах мировой энергополитики, безопасности, борьбы с терроризмом. Одновременно с этим, Россия не должна полностью отказываться от перспектив более тесной интеграции с постсоветскими странами, выбравшими на данный момент вектор форсированного вхождения в европейские и атлантические структуры, ибо как слабость и неустойчивость национальной государственности самих этих стран, так и кризис актуальной модели "евроинтеграции" делают этот процесс принципиально вариативным и обратимым.
Безусловно, ориентация России на "евразийский вектор" постсоветской интеграции неизбежно ставит ее перед лицом целого ряда серьезных проблем и вызовов - таких, как необходимость выстраивания качественно новых отношений с Китаем с учетом позиций и интересов партнеров по предполагаемому "альянсу", проблемой национализма и противоречиями между странами-участниками "блока", неоднозначными последствиями межклановой борьбы в элите новых партнеров, незаконной миграцией, необходимостью гибкого и эффективного взаимодействия с режимами авторитарно-корпоративистского типа и др. Всё это потребует от Москвы особой гибкости и принципиально новых подходов к выстраиванию отношений.
Однако следует признать, что все вышеназванные проблемы так или иначе уже актуализированы, и многолетний предшествующий отказ России от координирующей и консолидирующей роли в Центрально-азиатском регионе лишь усугубил их. Так или иначе, выбор остается за российской элитой: остаться на позициях временщиков и проиграть все, либо избрать принципиально новую стратегию и попытаться сохранить и укрепить позиции страны в контексте меняющейся реальности.
Сергей Бирюков