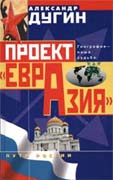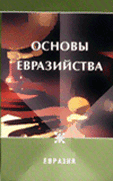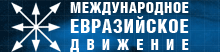 |
|
|||||
|
|
||||||
|
||||||||||||
|
В последнее время филологи, психологи и специалисты по теории познания активно изучают феномен своеобразных эрзац-языков – так называемых «пиджинов» или «креольских языков». Они образовались на основе базовых языков (английского, французского, испанского и португальского) в колониях, в среде рабов, а позже – в среде завербованных на плантации работников. Поскольку
языковые контакты цветных эмигрантов с белыми
сведены к минимуму, то усвоить правильную
грамматику, скажем, английского языка, они не
могут. Вместо этого у них складывается «пиджин»,
для которого характерна вольная грамматика,
пропуск глаголов, отсутствие служебных слов и
окончаний, произвольный порядок слов в
предложении. Явление это повсеместное.
По мнению филологов, при наличии социальных и политических условий пиджин может бурно развиваться и даже вытеснять полноценные языки. Условия, идеально подходящие для возникновения и развития своеобразного «пиджин-инглиш», сложились, например, в современной России. «Пиджин-инглиш» очень популярен сейчас среди, скажем, челноков или городской молодежи. Кроме того, пиджин может использоваться в семьях, где родители не имеют общего языка. Если не будут приложены сознательные усилия для обучения ребёнка своим родным языкам, то его первым языком станет пиджин. Что происходит с детьми рабов, говорящих на пиджине, когда они вырастают? Язык предков или язык местного населения для них недоступен. Тем более недоступен язык белых. «На входе» у такого повзрослевшего ребенка появляется относительно упорядоченная грамматическая структура – «креольский язык». Поразительно, но грамматики таких языков похожи независимо от места возникновения. Что в Северной Америке, что где-нибудь в Суринаме, что в Полинезии – структура одна. Исследователи даже высказали мысль о врожденной крестьянской грамматике. В конце 80-х годов, например, была популярна гипотеза о «биопрограмме для языка». То есть уже во втором поколении пиджины превращаются в более грамматически правильные «креольские (или «крестьянские») языки». Филологи учат, что «креольский язык» может постепенно превращаться в литературный, особенно в обществах промежуточного типа с высокой степенью социальной стратификации»... Теперь, вооруженные этой предварительной информацией, давайте попробуем проанализировать языковую среду, которая нас окружает. В настоящее время на пространстве бывшего СССР идут два процесса: 1) разрушение единого языкового пространства (следствие распада СССР); 2) проникновение английского языка в результате бурной вестернизации постсоветских территорий. Оба процесса сопровождаются формированием пиджинов... О распространении «пиджин-инглиш» мы упомянули выше. Теперь несколько слов о «пиджин-рашен». Как известно, русский язык являлся языком межнационального общения в СССР. Однако о появлении и развитии пиджинов на базе русского языка речи не шло. Хотя бы ввиду достаточно высокого уровня преподавания русского языка в национальных школах. Дети получали русский литературный язык и пользовались им повсеместно. Сейчас положение радикально изменилось. И вопрос, какой эрзац-язык будет преобладать в Евразии – пиджин-инглиш или пиджин-рашен – нам далеко не безразличен. Тем более, что на его основе неизбежно будут появляться новые евразийские «крестьянские языки»... При изучении феномена «креольских языков» были сделаны важные выводы в теории познания. Оказывается, что сама грамматическая структура действующего языка определяет механизм восприятия мира. Так, жесткая структура английского предложения приводит к такому же жесткому, рамочному взгляду на мир. Все, что не укладывается в определенные рамки, воспринимается как ошибочное, неверное или попросту отвергается. Хантингтон писал: «Есть линия, отделяющая Запад от всего остального»... Примитивность пиджина (словарный запас – не более 1000 слов) делает его языком бытового общения. Отразить сложность окружающего мира, сформулировать какие-либо сложные понятия (например, глобализация) на нем невозможно. Упрощение языка приводит к упрощению понятийного аппарата. Потому носитель пиджина значительно «дешевле» на рынке труда, чем носитель нормального, полноценного литературного языка. Мало того, таким образом целые народы попадают в положение догоняющих. А догоняющий, как известно, не догонит никогда. Всем известно, как порою трудно подбирать адекватные ярлыки для компьютерных программ. Чего, например, стоит «изящное» словосочетание «алфавитно-цифровое печатающее устройство», (сокращенно АЦПУ), на «пиджин-инглиш» называемое просто «принтер». Экономические и социологические термины – кальки конвенциональных дефиниций – пишут примерно так же... Скудность в словесном описании явлений все усложняющейся жизни приводит к разрывам в понимании. А без этого невозможно представить цельную картину мира. Отдельного разговора заслуживает проблема сознательной порчи языка, например, в ходе информационной войны. Русский народ – во многом «народ слова». Между тем, русский язык сейчас практически отрезан от своей питательной среды – фольклора. Скажем, на государственном канале «Культура» детям показывают любые сказки – от абхазских до японских. Даже полинезийские. Только не русские. Судя по отзывам сотрудников, это сознательная политика канала... Кстати, все полинезийские сказки в оригинале (не искромсанные заботливыми редакторами) заканчиваются примерно так: «...Они приехали на своих пирогах. И убили всех мужчин, и съели их. Всех женщин и детей изнасиловали. А всем старикам засунули хвост скорпиона в задний проход и вырвали им внутренности». Хотелось бы, чтобы полинезийская сказка не стала нашей былью... Вообще телекоммуникации в языковой порче играют колоссальную роль. Причем объектом их тлетворного влияния становятся не только «сотрудники плантаций». Беда здесь не только в чудовищном засорении русского языка малограмотными (и малокультурными) телеведущими, но и в проникновении в разговорную речь фактически уже оформившегося в отдельный диалект «синхронистского подстрочника». То есть специфические языковые конструкции, созданные гнусавыми переводчиками голливудской кинопродукции, теперь употребляются повсеместно. Причем мало кто отдает себе в этом отчет. На данный «диалект» влияли: беспрецедентная лексическая бедность «американской версии» английского языка, лихорадочный темп перевода и крайне низкая культура переводчиков. Уже сейчас можно увидеть молодых мам, общающихся в присутствии своих отпрысков между собой примерно так: «Я, типа... (жест). А он мне: типа, ну? Ну и я, это... ну, как бы – о нет!» Через пару поколений русская речь может превратиться в аналог современного гарлемского «эбоникса». Это уже даже не пиджин – это что-то вроде койне-сленга... Я не преувеличиваю, на таком «языке» уже сейчас издаются книги. Издаются они и на современном российском новоязе (с использованием «смайликов»). Здесь «на выходе» можно ожидать уже не «крестьянский язык», а пиктографию. Или что-то в этом роде... По материалам интернет-форума «Геополитика и политология» (http://arcto.ru/FORUMS/) |
Виды цветного металлопроката Воздушные завесы Топас 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||