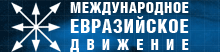Революция вынудила эмигрировать основных действующих лиц евразийского проекта. Все они жили во Франции, пока Вторая мировая не заставила их эмигрировать в США, Маркевич при этом поселился в Италии. Только Сергей Прокофьев, долгое время проживавший в Японии, США, Западной Европе и с 1927 года наезжавший в СССР, окончательно переехал в 1936 году на родину.
Между тем эстетическое формирование этих людей было обусловлено жизнью в предреволюционной и революционной России. Все они испытали влияние невероятно популярной в те годы музыки Александра Скрябина и поэзии русских футуристов.
Русский космизм последних и трансформировался в евразийские идеи. Наиболее харизматичный из евразийцев, композитор, писатель и общественный деятель, Артур Лурье в 1914 году составил вместе с Б. Лившицем и Г. Якуловым манифест «Мы и Запад», опубликованный в связи с приездом в Петербург итальянского футуриста Маринетти. А в 1917 году сочинил музыку к драме Велимира Хлебникова «Ошибка барышни Смерти». Его ранние выступления в печати утопическим пафосом и поэтической формой выражения неотличимы от выступлений поэтов-футуристов. Композитор, критик и поэт, Владимир Дукельский тоже был страстным футуристом, «раскрашивал щеки, носил лиловую хризантему в петлице и подвывал «под Маяковского» в разных кафе поэтов».
Связь великих композиторов Игоря Стравинского и Сергея Прокофьева с евразийством не столь очевидна. Важно то, что они смогли в своей музыке выразить многое из того, что легло в основу эстетического проекта евразийцев. Инициированная Лурье и поддержанная Сувчинским дискуссия о доисторической архаике и трансцендентном порядке, которые музыка Стравинского привнесла в западную традицию, позволила самому Стравинскому обрести новых союзников сначала в лице французских, а потом и американских композиторов. В результате «стравинскианский неоклассицизм стал в 1920–1950-е годы одним из ведущих больших стилей мировой музыки».
Евразийство и общество потребления
Евразийский музыкальный проект 20–30-х годов носил ярко выраженный утопический и ностальгический характер. Даже для европейски образованных интеллектуалов, каковыми были герои книги Вишневецкого, эмигрантский опыт оказался травматичен. Почти все они в разное время мечтали о возвращении в советскую Россию, а Сувчинский и Дукельский предпринимали безуспешные (к счастью для их жизни!) попытки возвращения на родину.
Евразийство было вызвано опытом революции и Гражданской войны, переживанием экстатического присутствия в судьбе каждого из свидетелей событий, осознанием неадекватности импортируемого с Запада видения происходящего как борьбы «прогрессивного класса» с «реакционным». Парадоксальным образом евразийцы видели в СССР утрированное продолжение западного и, по сути, буржуазного проекта.
Жизнь показала, что по большому счету они оказались правы. Идеология коммунизма была на самом деле идеологией «отложенного потребления» (термин Михаила Рыклина), и когда после развала СССР страна взяла курс на развитие капитализма, первоначальное накопление приняло экстремальный, разнузданный и крайне эгоистический характер, вступив в явное противоречие с популярным мифом о соборности русского народа.
Основной пафос евразийских теоретиков уже в 20–30-е годы (до осознания факта возникновения этой культуры современниками) был направлен против массовой культуры и консумеристского общества, в частности против репродуцируемой, стандартизованной музыки. Они противопоставляли этому явлению достижения русских композиторов, особенно Мусоргского и Даргомыжского, развивая в своем творчестве их достижения.
Антитоталитарность евразийства
При этом композиторы всячески противостояли колониальному отношению европейцев к культуре Востока. Теоретик евразийства лингвист Николай Трубецкой писал по поводу иерархического европейского подхода к культурам: «Нет высших и низших. Есть только похожие и непохожие. Объявлять похожих на нас высшими, а непохожих низшими – произвольно, ненаучно, наивно, наконец, просто глупо».
Какие бы утопические идеи ни лежали в основании евразийства князя Трубецкого, евразийцев-композиторов, очевидно, что оно не имеет ничего общего с прославлением тоталитарного государства, а также с шовинизмом и ксенофобией.
Важно, что еще в 1939 году художественный критик Петр Сувчинский писал: «Несмотря на мессианские пророчества «славянофилов», видевших исторический путь России абсолютно новым и не зависимым от старой Европы… коммунистическая революция бросила Россию в объятия марксизму – системе западной и европейской по преимуществу. Но поразительная вещь, эта гиперинтернациональная система претерпевает стремительную трансформацию в духе наихудшего национализма и народного шовинизма, снова резко отграничивающих ее от европейской культуры».
Анна Альчук