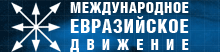Кроме того, США, нанеся первый в истории человечества ядерный удар, продемонстрировали всему миру, кто заказывает музыку. Это дало Вашингтону определённое преимущество перед СССР, однако ненадолго. Началось изнурительное состязание ядерных арсеналов. Мир не успел оглянуться, как в клуб счастливых обладателей оружия массового уничтожения вошли Франция, Великобритания, Китай, Индия, Пакистан. За клубной дверью, как бы нелегально, исподтишка собственной бомбой обзавелись Израиль и Северная Корея. Казалось, эпоха дележа и пересмотра границ закончилась, однако новым оправданием стремления США к мировому господству стало магическое слово «нераспространение». Во имя этого Америка вторглась в Ирак, пытается повлиять на Пхеньян, который очень стремится попасть в закрытый клуб. Первым на мушке Иран, который только что отверг предложения трёх стран ЕС предоставить ему мирную ядерную технологию в обмен на прекращение собственных работ по обогащению урана.
Однако не только силовыми методами Вашингтон пытается диктовать свою волю мировому сообществу. Внутри самих США, конечно, не нужно убеждать в праведности борьбы с тоталитарными режимами в других странах, тем более, если они пытаются обзавестись ядерным оружием. Важно убедить весь остальной мир в чистоте помыслов и правильно провести пропагандистские мероприятия. Основная цель – Россия. Во-первых, как активно усиливающееся в последнее время государство, во-вторых, как центр притяжения для третьих стран. Естественно, тема с нераспространением ядерного оружия с Россией не пройдёт – это не Ирак. А вот дискредитацию страны и фальсификацию исторических фактов, причём чужими руками, вполне можно попробовать.
Изначально важно изменить мнение мирового сообщества о роли СССР Великой Отечественной войне, и примеров тому, что подобные шаги делаются, много. Взять хотя бы политику стран Балтии и бывшего Восточного блока, строящих свои отношения с Москвой, как со страной-оккупантом. Западные историки стараются поровну разделить ответственность за развязывание Второй мировой войны между нацистской Германией и СССР, причём акцентируя внимание на том, что Россия является преемницей СССР, забывая при этом упомянуть, что и нынешняя Германия – преемница той нацистской Германии. Недавнее широкое празднование 60-летия высадки союзников в Нормандии, где, естественно, никто не вспомнил о том, что они могли бы высадиться и пораньше, просто ждали – кто из двух монстров – нацисты или коммунисты выйдут из схватки живыми и с кем потом делить Европу. На сегодняшний день нет по крайней мере видимых причин, по которым США откажутся от своих притязаний на роль мирового господина. По всей видимости это понимают и в Кремле, подтверждением чему служат попытки вновь объединить вокруг себя бывших союзников и противопоставить агрессивной политике Вашингтона не менее мощные аргументы.
Александр Дугин: Итак, Япония и весь мир вспоминают печальную дату – 60-летие сброса американцами ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки. Сегодня эту тему мы обсудим с Чрезвычайным и Полномочным послом РФ, профессором, руководителем Центра Европы и США Института Европы Олегом Алексеевичем Гриневским. Здравствуйте, Олег Алексеевич!
Олег Гриневский: Здравствуйте! Очень приятно.
Александр Дугин: Олег Алексеевич, как на ваш взгляд, ядерная бомбардировка японских городов была стратегически необходима американцам для победы во Второй мировой войне? Так ли уж это было важно?
Олег Гриневский: Нет, конечно, такой необходимости не было. Япония была уже на грани поражения, это было совершенно ясно. Замысел был другой: показать всему миру мощь Америки, и что у неё есть такие возможности, которых нет ни у одной другой державы. Высказываются разные точки зрения на этот счёт. Ну, естественно, где-то ускорить конец войны, спасти американские жизни за счёт жертв Японии. Это, конечно, было. Но главный замысел был – показать всему миру и прежде всего СССР мощь Америки.
Но для того, чтобы обосновать эту точку зрения очень важно посмотреть на две вещи. Первое – это замысел американцев, как было тогда, как они замыслили это дело. И исполнение. Давайте поговорим о замысле. Совершенно точно известно, тут историки не спорят, что Рузвельт не принял решение применять оружие или нет. Он умер в апреле, и к власти пришёл Трумэн. В тот же день его поставил в известность министр обороны о работе над атомной бомбой. Для него это был шок, до этого он ничего не знал. Естественно, встал вопрос о применении. И здесь у Трумэна сомнений не было. Причём, с самого начала речь шла о том, что это то оружие, которое создаст Америке новое положение в мире. Пример тому: американцы прилетели 16 июля в Потсдам, в тот самый день, когда было проведено первое испытание американской атомной бомбы в штате Нью-Мексико. Причём, Трумэн требовал, чтобы именно до его приезда в Потсдам Америка провела испытание этого оружия. Как он сам пишет в своих мемуарах: «Я должен иметь эту дубинку для того, чтобы иметь дело с этими парнями».
Александр Дугин: А кто, интересно, имелся в виду под этими парнями? Ведь Германия уже была разгромлена.
Олег Гриневский: Естественно, в Потсдаме речь могла идти только о Сталине. 16 июля Трумэн прилетел в Потсдам и ему сообщили о том, что испытание прошло успешно. Он медлил. И только 24 июля в завершение Потсдамской конференции, он рассказал об этом Сталину. Отозвал его в сторонку и сказал, что Америка произвела новое оружие небывалой мощности, уже проведено его испытание, и что американцы намереваются применить его в войне против Японии. И вот тут начинаются разночтения. Никакой стенограммы этого разговора нет. Сам Трумэн в своих мемуарах пишет, что Сталин поздравил его с этим и сказал, что он надеется или уверен, что Америка успешно использует его в войне против Японии. Наши же в основном строятся на том, что Сталин рассказывал после. Например, маршал Жуков говорил, что когда Сталин ему рассказал, то Молотов сказал, что это они, мол, себе цену набивают, а Сталин ответил: пусть набивают, и дал указания Курчатову ускорить создание собственного атомного оружия.
Есть ещё воспоминания Штеменко. Я больше всего склонен доверять Громыко. Я его лично хорошо знаю. Это человек очень осторожный, аккуратный, в общем, ему можно доверять. Он пишет, что Сталин выслушал и никак не реагировал. В этом случае тоже можно сказать, что Сталин дал добро, раз не выступил против. С точки зрения дипломатии, политики – молчание есть знак согласия. Целью Трумэна, когда он это сообщал, было запугать СССР, показав, что у Америки есть это оружие. Реакция Сталина в изложении Трумэна или Громыко, не важно, показывает то, что Сталин не испугался. Трумэн испытал от этого шок. Пришли к выводу, что Сталин ничего не понял.
Александр Дугин: Либо не понял, либо не поверил.
Олег Гриневский: Не поверил едва ли. Но их реакция была такая, что Сталин не понял, о чём идёт речь и, значит, надо применить. Американцы не знали, что мы были очень хорошо в курсе дела, наша разведка тогда работала блестяще. Я не думаю, что в те дни у нас уже были сведения о проведении этого испытания, хотя 24-го Сталин уже мог иметь такие сведения. Неважно. Но Сталин сыграл свою роль прекрасно. Дальше принимается решение о применении ядерного оружия именно против Японии.
Какой выбор целей, исполнение? Это очень интересно. Было выбрано 4 города – Хиросима, Нагасаки, Кокура, Ниегата. Принцип: взрыв должен показать наибольшую мощь с точки зрения жертв и разрушений. Ни в одном из этих городов не было военных объектов. Давайте возьмём Хиросиму. Население – 250 тыс. человек. Военных объектов нет. Бомбили Хиросиму за всю войну всего 12 раз, причём первый раз это было в марте 1945 года – 2 бомбёжки и 10 бомбёжек в апреле. Погибло всего 12 человек. Т. е. сами японцы считали свой город счастливым. Город и был выбран потому, что он такой чистый и наибольший эффект может быть показан именно там. 6 августа это и произошло. Таким образом, и по замыслу и по исполнению совершенно чётко просматривается цель. И это явно было направлено против нас.
Александр Дугин: Если с моральной точки зрения оценить это: мирный город, не представляющий стратегического значения для США, наглядным образом подвергается уничтожению. Как это квалифицировать?
Олег Гриневский: Конечно, с гуманитарной точки зрения – это ужасная вещь. Но в те времена было много вещей… Даже с точки зрения жертв Хиросима не была на первом месте. В Хиросиме погибло от 70 до 80 тыс. человек. Конечно, это не беря в расчёт последствия радиации. Но при бомбёжке Токио в марте месяце погибло 83 тыс. человек, т. е. даже больше, чем в Хиросиме. Поэтому главное всё-таки в бомбардировке Хиросимы была демонстрация мощи нового оружия. Что значит налёт на Хиросиму с точки зрения военного потенциала? Чтобы нанести такой же ущерб (воронка радиусом 2 километра, гибель такого количества людей) как от одной атомной бомбы необходимо задействовать 210 бомбардировщиков Б-29 с грузом бомб примерно 10 тонн на каждом самолёте.
Александр Дугин: Олег Алексеевич, а как вы считаете, после того, как японцы вынесли такое отношение – Хиросима, Нагасаки, убийство мирных людей, стирание с лица земли двух городов без военной необходимости, – почему у них до сих пор сохраняется союзническое отношение к Америке, и почему мы, русские, которые не причинили Японии особого вреда, – да, мы сними воевали, но в обычных, конвенциональных формах, – почему с нами японцы до сих пор не подписали мирного договора?
Олег Гриневский: Я бы здесь прежде всего отметил два момента. Во-первых, есть определённое чувство вины Японии за то, что она развязала войну против Америки. В той же самой Хиросиме на памятнике написано: «Спите спокойно, ошибка не повторится».
Александр Дугин: Но этот памятник поставлен в момент американской оккупации.
Олег Гриневский: Нет, они и сейчас так же думают. Я просто объясняю психологию. Второе. Надо иметь в виду, что это всё-таки была американская оккупация и они строили всё развитие Японии под свою систему. И третье. Холодная война, что это значит? Есть две составляющие холодной войны: имперская – завоевание территорий, позиций и т. д., и идеологическая, может быть, даже более важная – это борьба управляемой плановой экономики и рыночной экономики. И здесь, конечно, выбор правящих кругов Японии был в пользу рыночной экономики.
Александр Дугин: Я думаю, что если бы мы захватили Японию, то выбор вполне мог бы быть другим, как в странах Восточной Европы.
Олег Гриневский: До поры до времени. Как и с Восточной Европой. Как только ослабла военная мощь, силовой обруч, который сдерживал эти страны, они ушли. То же было бы и с Японией.
Александр Дугин: Возможно. Я просто думаю, что японцы были несвободны в своём историческом пути после войны. До американской оккупации они шли своим путём, и у них просто не оставалось выбора. С другой стороны, с демократической Россией сейчас, которая уже не является идеологическим противником капитализма, японцы, мне кажется, могли бы и сблизиться. У нас очень много стратегических интересов. Что этому мешает сегодня?
Олег Гриневский: Стратегических интересов я особо не вижу.
Александр Дугин: А ресурсы, которые необходимы Японии?
Олег Гриневский: Это уже экономические.
Александр Дугин: Для стратегического развития японской промышленности они просто жизненно важны.
Олег Гриневский: Мы просто говорим об одном и том же разными терминами. Экономически, да. Но здесь нам надо больше самим проявлять активность. С экономической точки зрения Япония, Китай, страны АСЕАН – это ведущие страны экономического развития будущего. Им нужны прежде всего энергоресурсы, нефть. Но в последнее время, куда были направлены все наши нефтепроводы?
Александр Дугин: Только на Запад. Да, вы правы – нам надо самим подумать об этом. Благодарю вас, уважаемый Олег Алексеевич. В любом случае ядерная бомбардировка мирных городов была всё же настоящим преступлением века и стоит в одном ряду с ужасами Дахау, Освенцима и смертоносным духом ГУЛАГа. Невозможно осуждать страшные преступления одних и творить самим нечто подобное. Так постепенно стирается грань между добром и злом. Если совершённое американцами не признать преступлением против человечества и фактом геноцида японского народа, о праве судить государства и политические режимы за их преступления стоит забыть. Мы выражаем своё искреннее соболезнование жертвам этой бесчеловечной кровавой бойни и надеемся, что ничего подобного не повторится в будущем.