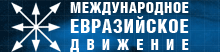Татарским языком здесь хорошо владеют многие чуваши, а татары-кряшены понимают чувашскую речь. И, по принципу родного языка, этноним "татары" (в отличие от части кряшен в левобережье и многих "низовых" нагайбаков Южноуралья) здесь прилагают к себе практически все (независимо от трёх вероисповеданий), и какой-либо политизации в самосознании здешних татароязычных жителей не наблюдается.
Для татар-православных, составляющих до 15% населения указанного района, автором предложено название "кайбúцкие кряшены" (ранее, в литературе, "молькеевские", или "подберёзинские"). Но следует учитывать, что субэтноним "кайбúцкие кряшены" конфессионально двусоставной. Местный кряшенский диалект и фольклор характерны и для кряшен, сложившихся в православной традиции и для т. н. "некрещёных кряшен" ("чукынмаган корэшеннэр"). Это до 200 чел. в с. Ст. Тябердино (Иске-Тярбит) с выселкой с. Камылово Кайбицкого р-на.
В этноконфессиональном отношении дуалистично и соседнее население, чуваши-анатри. Помимо православных и вместе с ними, в 7-и приграничных сёлах здесь проживают 5-6 тыс. чел., тоже именуемых и именующихся "некрещёными" ("тêнекêмен").
Более того, возник особый подтип верований в близлежащих (до 20-и км) и по традиции "взаимобрачных" чувашском с. Байбахтино (иначе – Трёх-Изба, Виш-Пюрт) Комсомольского р-на Чувашии и сс. Ст. Тябердино и Камылово.
Такую "свою" веру эти соседние этноконфессиогруппы считают "главной" и "исконной", первенствующей перед православием и исламом. Хотя на практике она оказывается синкретичной, обнаруживает и древние истоки, и явное влияние соседних мировых религий.
Основу её составляет образ верховного бога, тат. "Аллá", чув. "Турá". На уровне низших образов поклонения повсюду прослеживается культ "киреметей" и особенности ритуалов (между Тябердиным и Камыловым – сосна "кирэмэт агаш" и "этэч тибэгэ" – укромное место для принесение в жертву домашней птицы).
В качестве стимула такого "стихийного единобожия" учёные рассматривают соседнее исламское влияние (Д. Месарош из Венгрии, его полевые исследования в Средневолжье на рубеже XIX-XX вв.). Но монотеистические тенденции очевидны в общетюркском древнем "тенгрийстве" (С. Г. Кляшторный), или "тенгрианстве" (Л. Н. Гумилёв, О. О. Сулейменов, Р. Н. Безертинов).
Вплоть до того, что "монотеизм тенгрианства" (как допустимое внеисламское единобожие - "таухид") был признан отдельными видными руководителями мусульманства в России (Т. С. Таджуддин, его выступления в прессе в 1997-98 гг.).
Название верховного бога, чув. "Турá", явно соотносится с др.-тюрк. и монг. "Тенгри" в том же значении. На диалекте кайбúцких кряшен "тэре" – "икона, образ" (у их собратьев в левобережье, как и в лит. яз. – "крест"). Да и сам топоним "Тябердино" произошёл от похороненного здесь же, жившего в нач. XYI в. богатыря Тянгри-берды.
В чувашских 7-и "некрещенских" селениях, в татароязычных сс. Ст. Тябердино и Камылово сохранился поминальный обряд общественной "большой свечи" ("аслâ çурда", "зур шам"). Для чего совместно создаётся из домашнего воска массивная и рукотворная, спирально закрученная свеча, которую зажигают и в течение ночи "раскручивают" (тат. "шамны яндыру, эйлэндеру").
Следует сопоставить с известной (нач. XX в.) марийской, вновь энергично проявившейся в современной Мари Эл, "языческой", (г)енотеистической сектой "кугу сорта" (тоже "большая свеча" как символ общности единоверцев). Можно обоснованно утверждать о "средне-волжском круге" культур и верований, сложившихся в условиях аграрного ХКТ, под булгарским влиянием (булг. "сорта, сурда, шурда" – "свеча", кыпч. однокоренное "джарúт, жарыт / ярúт" – "луч", "свет"). У татароязычных "чукынмаган" бытует, как можно было убедиться, иное слово, диал. "шам" (лит. яз. "шэм" – "свеча"), совпадающее, кстати, в персидском и калмыцком языках.
Интерес представляет и второй прослеженный, ключевой в "некрещенской" ареальной подобщности "Тябердино - Байбахтино" ритуал. Это "курман-байрам в день св. Петра и Павла", т.е. 12 июля ежегодно. Пожертвовав накануне "белое" животное или птицу (гусь, барашек) в этих двух местностях трое старейшин с блюдами в руках, буханкой ржаного хлеба новой выпечки встречали солнечный луч молитвой (текст, на двух языках, удалось записать): "О, Тура (Алла), свет Природы (иначе – "окружающий мир, всё вокруг") и наш кормилец, не оставь нас милостью впредь!"
В полном виде такой утренний аграрный ритуал не отмечен в других, кроме Байбахтина, чуваш. сёлах "тêнекêмен". Хотя в фрагментарном виде отдельные его компоненты (старцы-руководители обряда; блюдо; хлеб или каша; белое животное или птица) встречаются или отмечались ранее (Д. Месарош).
Но в татароязычной общности совершенно идентичные обряды отмечались также и в среде кряшен левобережья – Чистопольском уезде (II-ая пол. XIX в.), Лаишевском (1910-12 гг.), Елабужском (полевые данные автора, 1993-99 гг.). Более того, почти точное соответствие (строевой праздник – "курман на Петраý") имелось у казаков-тюрок, нагайбаков (христиан из татар, менее калмыков, а также немногих мусульман – в челябинском Южноуралье), существовало до 20-х гг. XX в., с попыткой возродить его в 1990-х гг.
Пространственный "разрыв" ритуала прежде наверняка отсутствовал. И проявляется ныне, когда до деталей совпадают ритуалы в очень отдалённых пространственных точках. И возникает ситуация наподобие "круга магического камня "ядá / джадá" (С. Е. Малов) в самых различных пунктах нынешнего тюркского мира – от мест проживания реальных тюрок-шаманистов до ареалов, вполне мусульманских или православных.
Таким образом, материал приграничья правобережного Татарстана и Чувашии, Ульяновской области позволяет рассмотреть вероисповедную ситуацию как любопытную и многообразную (в т. ч. в (суб)этнокультурном отношении) – в плане сохранения древних верований и многоуровнего синкретизма мировых религий с ним и между собою, следов взаимодействия древнетюркских (в т. ч. волжских булгар), кыпчакско-тюркских и финно-угорских народов.
В рассматриваемом здесь специально небольшом араеле соседство с чувашами "подкрепляло" необычное татаро-кряшенское "некрещенство" (!), способствовало его сохранению. А обратное влияние родственников и соседней, "некрещёных" татар, способствовало применению среди чувашей ритуала, характерного ранее для правобережного Татарстана и (через переселенцев-нагайбаков) вплоть до Южного Приуралья.
Викторин Виктор Михайлович
(г. Астрахань, Администрация Губернатора области)
Подготовлено на основе доклада на
VI Конгрессе этнографов и антропологов России
"Этнокультурные взаимодействия в Евразии"
(20 июня-2 июля 2005 г., г. Санкт-Петербург – пос. Репино).
Разные аспекты проблемы в этноконфессиональном, историко-религиоведческом и структурно-этническом ракурсе были освещены автором ранее, см. более подробно:
Викторин В. М. Этноконфессиональные реликты-совпадения в татароязычной общности ("Курман-байрам" на Петров день у тенгриан, кряшен и нагайбаков). – В сб.: Этническое единство и специфика культур Матер. I-х Санкт-Петербург. этнографич. чтений. СПб.: [Росс. этнографич. музей]. 2002 – С. 86-89.
Викторин В. М. Сезонно-ритуальные "схождения" у татароязычных этногрупп от правобережья Волги до Южного Урала (тенгриане, кряшены и нагайбаки). – В сб.: Этнос – культура – человек. Матер. М/н науч. конф. к 60-летию проф. В.Е.Владыкина. Ижевск: Изд-во «АНК». 2003 – С. 95-99.
Викторин В. М. Этноконфессионально-специфические группы в структуре этносов на рубежах Евразии (монотеизм – рецепция и связь верований – соотношение общин). – В сб.: Россия и Восток: проблемы взаимовлияния. Матер. VI-ой М/н конф. Волгоград: Изд-во ВолГУ. 2003 – С. 155-166.