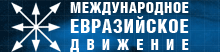|
Дугин выделил три уровня, фундаментальных для нашего понимания либерализма и места в нем российской экономики и ее перспектив развития. Три основные парадигмы цивилизации, с его точки зрения, таковы. Первая – "цивилизация премодерна", или традиционного общества. Это форма существования человечества, основанная на религиозных принципиальных архаических основах. Большая часть нашей истории, с сотворения мира до сегодняшнего дня, существовала именно в премодерне, в рамках традиционного общества.
На рубеже эпохи Просвещения (XVI – XVII века) и до конца XX века мы жили в эпохе Нового времени, который обычно называют модерном. Это была совершенно отдельная цивилизация, с совершенно иными идеологиями и мировоззрениями, которая была прямым отрицанием премодерна. Между модерном и премодерном соотношение примерно как между плюсом и минусом, все, что утверждалось в традиционном обществе – картина человеческой антропологии, теологии, хозяйства, общества, политики, быта, этики, – все это отрицалось в модерне, и отрицание этого было главным стимулом перехода к модерну.
Но в конце XX столетия, буквально несколько десятилетий назад, человечество, которое спокойно существовало в модерне, вдруг стало осознавать, что повестка модерна, программа модерна в своем отрицании премодерна исчерпала себя. И возникает феномен, который условно был назван постмодерном. Это актуальный западный мир, последней четверти XX –начала нашего века. Многие исследователи стали осознавать, что между модерном и постмодерном существует почти такая же разница, буквально пропасть, как между модерном и премодерном.

В докладе спикера Евразийского экономического клуба были раскрыты параллельные уровни технологического развития, в соответствии с тремя моделями цивилизации: премодерну соответствовало прединдустриальное общество, модерну – индустриальное, постмодерну – постиндустриальное. Современные экономисты делят экономику на три сектора – первичный, вторичный и третичный. С точки зрения наложения этих трех парадигм друг на друга, отметил Дугин, возникает интересная взаимосвязь. Премодерну соответствует первичный сектор экономики – аграрное хозяйство, ремесла, модерну – вторичный сектор (промышленность), постмодерну – третичный, который включает в себя сферу услуг, в том числе финансовые, юридические, консалтинговые и т.д.
От технологического развития и экономики Дугин перевел тему доклада в идеологическую плоскость: "В эпоху модерна существовали три основные идеологии, которые соответствовали каждая своей парадигме в рамках модерна. У каждой было свое представление, как следует относиться к премодерну, к самому модерну и каким они бы желали видеть постмодерн".
Первая из идеологий, которая потерпела поражение, – идеология фашизма. Он в своей основе был модернистическим явлением, но которое стремилось сочетать премодерн с модерном. Фашизм видел в премодерне гиперборейскую языческую традицию, которую воспринимал как позитивную реальность, сам же модерн он воспринимал как идеологию национал-социализма, как Германию времен правления Гитлера, а в качестве постмодернистической модели был выбран "тысячелетний планетарный Райх", там и должна была закончиться история.
Вторая модель – идеология коммунизма. В ней тоже было свое специфическое представление о премодерне и исторической диалектике: от «пещерного коммунизма» через классовое общество и капитализм. Это было премодерном для коммунизма, а социализм, СССР и советский лагерь – это был коммунистический модерн. Существовало также свое представление об утопической постмодернистической перспективе – наступление всеобщего планетарного коммунизма после свершения мировой пролетарской революции.
Модель третья – либерализм, который видит проект модернизации в либерал-капитализме, буржуазной демократии. Это
единственная идеология модерна, которая в XX веке выиграла и сумела реально сформировать постмодерн как реальность, в
который мы с вами живем: это "информационное общество", "one world", "мировое государство", "глобализм".
Большинство участников дискуссии в "Марко Поло" были настроены достаточно критично в отношении современного российского либерализма и его политической практики. В кулуарах заседания клуба невольно возникал вопрос, почему стратеги официального экономического курса неспособны выработать эффективную промышленную политику страны? Почему демонстрируется очевидная для всех неспособность найти разумное применение огромным финансовым средствам, накопленным в золотовалютном запасе государства и стабилизационном фонде? Как можно надеяться на серьезные (а не спекулятивные) инвестиции в российскую экономику из-за рубежа, когда российские либеральные гуру считают, что вкладывать "нефтедоллары" в отечественную экономику вредно, а "разумно" будет держать эти деньги в иностранных банках (притом под небольшой процент)? Разве после этого серьезный иностранный инвестор придет в Россию?
О соотношении либерализма и модернизации интересно высказался Михаил Леонтьев: "Нет ни одной страны мира, кроме Великобритании, где бы модернизация была проведена преимущественно либеральными средствами. В Британии это происходило на фоне абсолютного господства в мировой торговле и на морях (маленькое субъективное обстоятельство). Все остальные страны модернизировались вне этого обстоятельства, с использованием нелиберальных инструментов. Другого типа модернизации история человечества не знает. Поэтому навязывание либерализма является отрицанием возможности серьезных модернизационных перспектив".
Политолог Сергей Марков, размышляя о современных политических альтернативах в России, выделил несколько вариантов, которые стремились прийти на смену квазилиберальной деградирующей маргинальной субкультуре в либерализме. Во-первых, это представители "промышленной политики, отраслевые группы", которые пытались создать гражданское общество, но все эти годы терпели поражение; во-вторых, социалисты, которые так и не выдвинули внятной экономической программы; наконец, "институционалисты", группа, которая толком пока не оформлена. Cимптоматичен сам ход мыслей ведущих российских политологов: необходимы новые идеи, новые смелые решения, новая стратегия развития, иначе Россия навсегда исчезнет как субъект мировой политики, будет расчленена удачливыми геополитическими конкурентами.
О тревожности возникшей ситуации может свидетельствовать и другое выступление Сергея Маркова – эксперта, не секрет, близкого к верховной власти. Выступая в середине апреля на "Открытом форуме", он с шокирующей откровенностью перечислил факторы, благоприятствующие "оранжевой революции" в России. В их числе:
- "огромное различие между бедными и богатыми. При этом рост различия, бросающегося в глаза. Бедные объективно стали еще беднее, чем были в советское время. Они могут сравнивать эту свою бедность с поздним советским временем";
- "постепенно закрываются каналы вертикальной мобильности, что вызывает все больше и больше недовольства среди молодого поколения из-за невозможности сделать нормальную карьеру";
- "в экономике монополизированы рынки практически по всему спектру. Тем самым сдерживаются экономическое развитие и возможности карьеры в сфере бизнеса";
- "отсутствие внятной стратегии развития и модернизации страны";
- "наглость правящего класса, его вызывающий стиль потребления. Это Куршевель, "Челси" и все прочее";
- "недоверие к политическим институтам, прежде всего таким, как судебная система, парламент и избирательная система".
Правда, Марков надеется на "глубокий патриотизм элит и общества в целом, который не позволит западным центрам и фондам навязать России "цветную" революцию, ведущую к потере ее суверенитета". Но насколько совместимы "глубокий патриотизм" и Куршевель с "Челси", покажет, по мнению аналитиков, уже ближайшее время.
На сохраняющийсяу России шанс обрести былое величие указывают и внимательные иностранные обозреватели. Лисандро Отеро пишет в испанском издании "Rebelion": "Царский империализм укреплял российское государство, поглощая граничившие с ним нации, стремясь распространить свое влияние на север и юг, на скандинавские и мусульманские народы, получить выход к Балтике, Каспийскому и Черному морям, Тихому океану и через Босфор и Дарданеллы добраться до Средиземного моря. Многочисленные пограничные, этнические, лингвистические, религиозные, культурные и идеологические проблемы так и не были разрешены. Сепаратистские и националистические настроения подавлялись силой. Оппортунист Борис Ельцин воспользовался внутренним расколом для удовлетворения своих амбиций и расщепил великое государство, чтобы иметь возможность захватить себе его часть.
Нынешняя Россия сопоставима с Германией времен Веймарской Республики. Поражение в "холодной войне" заставило ее унизительно преклонить колени. Но Россия по-прежнему сохранила свои огромные ценности: интеллектуальные, духовные, исторические…
Российский народ лишился прежнего уровня жизни, который, хотя и несравним с американским, все же был гораздо выше нынешнего. Но у России еще есть ресурсы, которые помогут ей вновь стать великой – с экономической, научной и военной точки зрения – державой. Прежний Советский Союз был расколот, а его останки рассеяны по ветру. Пробуждение "раненого медведя" может привести к значительному изменению сложившейся в мире ситуации, где сегодня заправляют авантюристы из Вашингтона".
Анатолий Сергеев
|
Архивы Евразии
26.05.2003 - "Нападут ли США на Иран?" - пресс-конференция генерального директора Центра изучения современного Ирана Раджаба Саттаровича Сафарова
|