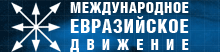Регион "Большого Не отрицая значимости этнонациональных, религиозных и культурных факторов, геополитика утверждает, что они - всего лишь конфликтогенный фон, на котором развертывается борьба стратегических противников - "суши" и "моря". Без этого конфликтогенный потенциал региона вполне мог бы оказаться и невостребованным. Как бы жестко и цинично это ни звучало, кавказские народы имеют единственную альтернативу для самоопределения: либо жить в мире и стабильности с Россией, либо выполнять функции "плацдарма" для экспансии сил "моря" вглубь континента, что автоматически влечет за собой его превращение в управляемый "очаг напряженности" для ослабления и окончательной десуверенизации России. Никакого "третьего пути" для Кавказа просто не существует.
Когда же мы встречаемся с подобными политическими мифами, то они проистекают либо из геополитического легкомыслия и наивности, либо являются результатом хорошо продуманных и спланированных идеологической провокаций. Здесь же сокрыты и истинные причины так называемых двойных стандартов западных государств в оценке действий России на Кавказе, которые всегда осуждались из "общечеловеческих" и "гуманитарных" соображений и их собственной колониальной и империалистической политики по всему миру, которая признавалась "насущной необходимостью". Этот стереотип надолго утвердился в массовом сознании Запада и наиболее ярко проявился в ходе критики со стороны США и Евросоюза контртеррористической операции в Чечне, при безоговорочном одобрении военного вторжения НАТО в Югославию, Афганистан и Ирак.
Парадоксы кавказского традиционализма
Теперь обратимся к феномену этнорелигиозного традиционализма на Северном Кавказе, который, как общественно-политический проект, противоположный исламскому фундаментализму, стал особенно актуален в постсоветской России в связи с угрозой распространения ваххабизма. Ваххабиты, или салафиты, ставили перед собой основную цель - исламизация населения Северного Кавказа и построение на его территории "халифата", независимого теократического государства. Исторически ваххабизм возник в начале XVIII века на Аравийском полуострове как религиозно-политическое учение, связанное с объединительным движением арабов против турецких султанов. Основатель ваххабизма, Мухаммед ибн аль-Ваххаб, проповедовал абсолютизацию веры в единобожие Аллаха. Однако, с общественно-политической точки зрения, ваххабизм отрицал как раз те формы ислама, которые были основными в империи турецких султанов. Поэтому не удивительно, что в историографической литературе существует версия, согласно которой аль-Ваххаб был завербован английской разведкой и использован в борьбе Великобритании против Османской государственности. В конце XX века ваххабизм, уже испытанный инструмент геополитической экспансии англосаксонских стран, опять оказался востребован для инфицирования традиционного ислама на постсоветском пространстве и формирования очагов межрелигиозной и политической напряженности.
На этом фоне вполне естественно, что для нейтрализации ваххабизма в постсоветской России одним из императивов внутренней политики Кремля стала опора на традиционный ислам. Благодаря этому на первоначальном этапе удалось даже внести противоречия и расколоть наиболее одиозных лидеров бандформирований, одни из которых заявили о своей приверженности ваххабизму (З. Яндарбиев, М. Удугов, Ш. Басаев), другие - остались верны идеалам традиционного ислама (А.-Х. Кадыров, Х.-П. Исрапилов, С. Ямадаев), третьи - заняли светскую позицию, отождествляемую со строительством в Чечне суверенного государства по "западному образцу" (А. Масхадов). С геополитической точки зрения, абсолютно логично, что исламский традиционализм имел ярко выраженный пророссийский характер, главным доказательством чему стал организованный отпор ваххабитам в 1999 г. в Дагестане и избрание первым президентом Чечни бывшего муфтия ЧРИ А.-Х. Кадырова.
Однако уже в конце 1990-х гг. произошла своеобразная мультипликация традиционализма, в процессе которой наряду с пророссийскими субъектами этого явления появились и его поборники в противоположенном "лагере" - в стане так называемых непримиримых лидеров НВФ. Одной из наиболее ярких фигур этого парадоксального направления стал Хож-Ахмед Нухаев, бывший чеченский криминальный "авторитет" в Москве и руководитель службы внешней разведки Д. Дудаева. В своих неожиданно глубоких работах он сформулировал масштабную, удивительно стройную и детально разработанную концепцию вайнахской традиционалистской государственности, основанную на этнонациональных (кровно-родственных) и этнорелигиозных нормативах.
Казалось бы, концепция нухаевского традиционализма открывала новые авангардные пути для поиска политических моделей урегулирования чеченского конфликта, однако, к сожалению, чуда не произошло... Нухаев не только уклонился от полноценного диалога с российской стороной, но и вместе с другими "полевыми командирами" принял активное участие в организации подрывной деятельности против России.
Данную ситуацию можно было бы смело отнести к разряду "несостоявшегося диалога", если бы не два "но".
Во-первых, на протяжении многих лет, до того, как стать "традиционалистом" и "антиглобалистом", Нухаев был глубоко интегрирован в якобы "ненавистную" ему инфраструктуру атлантистской внешней политики, стремившейся использовать его связи на Кавказе для лоббирования своих экономических (а точнее - сырьевых) притязаний в регионе. Для этих целей Нухаевым были созданы такие структуры, как "Кавказско-американская торгово-промышленная палата" и "Кавказский общий рынок", с позиции которых развернута деятельность по выдавливанию России с энергетических рынков "Большого Кавказа".
Во-вторых, в дополнение к своей концепции "традиционалистской государственности" Нухаев также разработал и специфическую модель геополитики. Наряду с утверждением о существовании цивилизаций "суши" и "моря" он настаивал на введении "третьего центра", "третьей ценностной системы" - цивилизации "гор" как подлинного источника высшей духовности, традиции и власти. Не неся в себе ничего принципиально нового, так как в классической геополитике "горы" являются неотъемлемой частью "суши", подобное допущение радикальным образом меняло всю геополитическую картину мира, создавая теоретические предпосылки для легитимации особой формы "антисухопутного" (а значит, и антироссийского) традиционализма.
С учетом всего этого сам собой напрашивается вывод: в интеллектуальных изысках Нухаева и "нового" чеченского традиционализма мы имеем дело с хорошо узнаваемым почерком англосаксонской геополитической системы, разработавшей очередную концептуальную модель, прямо противоположную ваххабизму по форме, но тождественную ему по содержанию. С ее помощью пытаются осуществлять политику "двойных стандартов" по отношению к России, не признавая проводимую в Чеченской Республике контртеррористическую операцию как часть общих усилий по борьбе с международным терроризмом.
Евразийский проект
Чеченцам необходимо как можно быстрее отказаться от опасных иллюзий насчет возможности существования на Северном Кавказе какого-либо независимого политического образования, не говоря уже о "суверенном государстве". Любой "третий центр" будет всего лишь инструментом в руках атлантистов, используемым для ослабления российского влияния в регионе. Ориентация же на Россию, как гарант стабильности всего евроазиатского военно-политического и социо-культурного ландшафтов, способна принести в Чечню мир и стабильность. И пусть не лукавят те, кто видят в России лишь источник "зла", "коррупции", "безбожия" и "безнравственности", ибо и в самом чеченском обществе протекает достаточно негативных процессов, а чеченский традиционализм далеко еще не данность, но задание.
Одновременно и Россия, со своей стороны, должна отказаться от жесткого унитаристского подхода к чеченской ситуации, бездумных попыток унифицировать вайнахское общество. Необходимо проявить больше гибкости, пойти навстречу требованиям настоящих чеченских традиционалистов защитить их национальную и религиозную идентичность, предоставить им максимум полномочий в области местного самоуправления при условии безоговорочной стратегической ориентации на Москву, а не на Вашингтон.
Контуры подобного проекта были описаны еще в начале XX века в обширном интеллектуальном наследии русского евразийства, получившего развитие в трудах современной неоевразийской школы. Сущность евразийского подхода к урегулированию межнациональных и межконфессиональных конфликтов заключается в уважении самобытности всех народов, признании за ними права на отстаивание собственной идентичности, сохранение традиционного уклада общественно-политической и экономической жизни. Решить такую задачу возможно лишь при условии создания в России политического устройства, максимально открытого для вовлечения в него народов с иной культурой, цивилизационной, политической, религиозной и хозяйственной историей.
Александр КУЗНЕЦОВ, эксперт международного фонда "Центр геополитических экспертиз",
кандидат юридических наук; Сергей СИДОРЕНКО, начальник кафедры Ростовского юридического
института МВД, кандидат философских наук